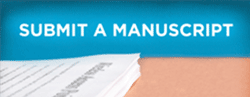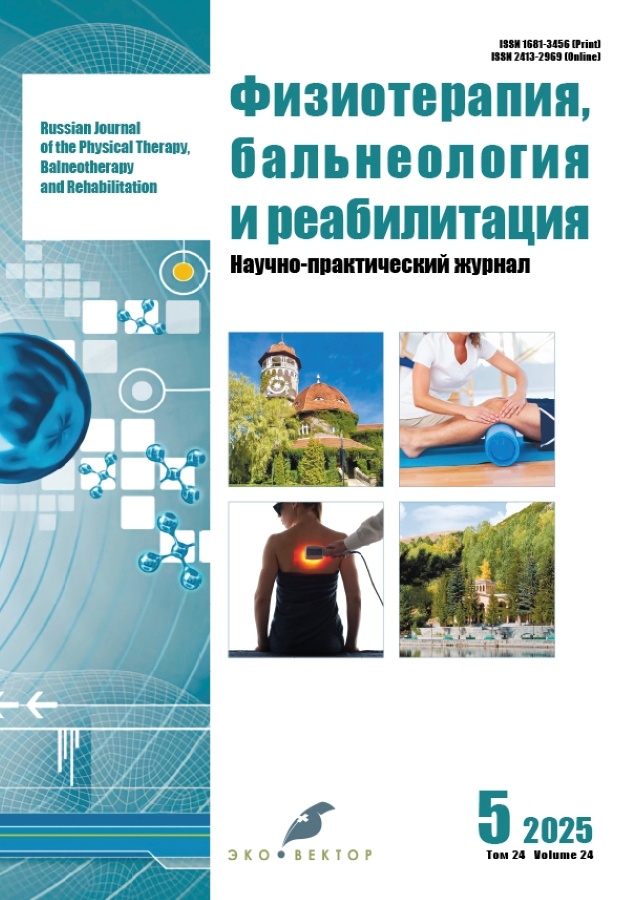Therapeutic potential of hypoxic conditioning technology in post-stroke rehabilitation: from molecular and physiological mechanisms to clinical practice (narrative review)
- Authors: Nyamukondiwa M.1, Koneva E.S.1,2, Glazachev O.S.1
-
Affiliations:
- Sechenov First Moscow State Medical University
- MEDSI
- Issue: Vol 24, No 5 (2025)
- Pages: 321-331
- Section: Review
- Published: 15.06.2025
- URL: https://rjpbr.com/1681-3456/article/view/679816
- DOI: https://doi.org/10.17816/rjpbr679816
- EDN: https://elibrary.ru/elyqay
- ID: 679816
Cite item
Abstract
Acute cerebrovascular accident remains one of the leading causes of disability and mortality, with persistent risks of developing and progressing cognitive and functional impairments even in the late recovery period. The urgency of this issue drives the search for innovative approaches to rehabilitation and quality-of-life improvement in such patients. Interval hypoxic conditioning technology, particularly in the form of intermittent hypoxic–hyperoxic training, represents a promising non-pharmacological approach capable of enhancing neuroplasticity, synaptogenesis, and cerebral hemodynamics. The aim of this review is to analyze the therapeutic potential of intermittent hypoxic–hyperoxic training in the context of post-acute cerebrovascular accident rehabilitation, including its effects on molecular adaptation mechanisms, angiogenesis, and functional recovery. Methodology involved a systematic search in PubMed, Scopus, eLIBRARY.RU, and other databases, focusing on studies related to hypoxic preconditioning, neuroprotection, and clinical outcomes. The results demonstrate that intermittent hypoxic–hyperoxic training activates HIF-1α–dependent pathways, stimulating angiogenesis through VEGF and neurogenesis via BDNF, as confirmed by both experimental and clinical data. Moderate intermittent hypoxia (9%–16% O₂) optimizes the redox balance, suppresses proinflammatory cytokines (IL-6, TNF-α), and enhances antioxidant defense through Nrf2, correlating with reduced ischemic damage. Clinically, intermittent hypoxic–hyperoxic training procedures improve cognitive function (memory, attention) and motor performance, especially when combined with aerobic training, increasing exercise tolerance (e.g., 15%–20% improvement in the six-minute walk test) and quality of life. Cardioprotective effects include normalization of blood pressure and reduction of oxidative stress markers (malondialdehyde), which is particularly relevant for patients with multimorbidity. Integration of intermittent hypoxic–hyperoxic training into multimodal rehabilitation programs contributes to synergistic effects, enhancing neurovascular remodeling. Despite its promise, further optimization of personalized protocols considering age and comorbidities, as well as randomized trials to assess long-term safety, are required. This review addresses neurologists, molecular biologists, and rehabilitation specialists, highlighting the translational potential of intermittent hypoxic–hyperoxic training into clinical practice given further validation of its efficacy.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), в частности инсульт, остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации в глобальном масштабе. Ежегодно инсульт поражает около 15 миллионов человек, из которых 5 миллионов погибают, а ещё 5 миллионов сталкиваются с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности [1, 2].
Заболеваемость инсультом составляет от 10 до 20 случаев на 10 000 человек в возрасте от 55 до 64 лет, достигая свыше 200 случаев на 100 000 среди лиц старше 85 лет [3]. Инсульт в зависимости от характера и локализации вызывает широкий спектр неврологических нарушений, связанных с физической инвалидизацией, а также разнообразные когнитивные и нейропсихиатрические расстройства, которые затрудняют реабилитацию, бытовую и социальную адаптацию и качество жизни как самих пациентов, так и ухаживающих за ними лиц [4].
Двигательные нарушения различной степени и характера представляют собой самый частый симптом поражения головного мозга в хронической стадии заболевания. В острой стадии они выявляются у 70–90% пациентов, спустя 1 год резидуальный дефект сохраняется не менее чем у 50% выживших больных [3, 5].
Когнитивные нарушения после инсульта — частое, но игнорируемое последствие по сравнению с другими неврологическими нарушениями, такими как сенсорные или моторные нарушения. Хотя не все инсульты приводят к когнитивным нарушениям, инсульт значительно (в 3–5 раз) увеличивает риск деменции. Заболеваемость деменцией у пожилых людей с более длительным периодом наблюдения увеличивается с 10% через 1 год до 32% через 5 лет [6].
Результаты Хельсинкского исследования показали, что до 83% выживших после инсульта имеют нарушения по крайней мере в одной когнитивной области, тогда как 50% — в нескольких (>3) [7]. Важно отметить, что в 71% случаев с хорошим клиническим результатом через 3 месяца у пациентов сохраняются нарушения памяти, зрительно-конструктивных или исполнительных функций. Метаанализ данных нескольких исследований показал, что один из 10 пациентов страдает деменцией до первого инсульта, у одного из 10 деменция развивается вскоре после первого инсульта и более одного из 3 страдают деменцией после первого инсульта [6].
Когнитивные нарушения или деменция после инсульта, как правило, возникают в течение 3 мес. Независимо от этого у многих выживших после инсульта развивается отсроченное когнитивное снижение, признаки которого отмечаются через 6–12 месяцев [4].
Даже у пациентов с относительно нетяжёлым инсультом частота возникающих когнитивных нарушений достаточно высока. Так, проведённое во Франции исследование в когорте впервые перенёсших инсульт пациентов без доинсультной деменции показало, что частота когнитивных нарушений через 3 месяца после малого инсульта составила 47,3% [7].
Всё вышесказанное подталкивает к поиску, в том числе, таких реабилитационных технологий, которые, помимо моторной активности, в ряде случаев ограниченной возрастом, когнитивным дефицитом, коморбидной патологией, носят стимулирующий и тренирующий характер, без вовлечения пациента в физическую тренировку.
Несмотря на прогресс в лечении острой фазы инсульта, восстановление когнитивных и двигательных функций у выживших пациентов остаётся серьёзной проблемой. Даже при использовании традиционных методов реабилитации, таких как физиотерапия, лечебная физкультура, эрготерапия и логопедическая коррекция, многие пациенты сталкиваются с неполным восстановлением, особенно в резидуальную фазу, когда потенциал нейропластичности снижается [1, 8].
Особую сложность представляют сопутствующие психоэмоциональные и когнитивные расстройства, такие как депрессия, тревожность и нарушения внимания, памяти, которые снижают мотивацию пациентов и замедляют нейрореадаптацию [9]. Эти факторы, наряду с возрастными изменениями и мультиморбидностью, ограничивают эффективность стандартных подходов, требующих длительного времени и значительных ресурсов [8]. В связи с этим актуальным становится поиск инновационных методов, способных усилить нейропластичность, оптимизировать церебральную гемодинамику и сократить период восстановления.
Одним из перспективных направлений в расширении способов реабилитации пациентов, перенёсших ОНМК, являются технологии гипоксического кондиционирования (ГК), например интервальные гипоксически-гипероксические экспозиции (ИГГЭ), основанные на дозированном дыхании через маску гипоксическими и гипероксическими газовыми смесями. Экспериментальные данные демонстрируют, что контролируемая гипоксия активирует молекулярные пути, ассоциированные с индуцируемым гипоксией фактором (HIF-1α), стимулируя ангиогенез через фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), нейрогенез в гиппокампе и синтез нейротрофического фактора мозга (BDNF) [10, 11]. Эти механизмы способствуют ремоделированию нейросетей, улучшению церебральной перфузии и снижению нейровоспаления, что подтверждено исследованиями на моделях ишемии у животных [12]. Клинические исследования также указывают на положительное влияние ИГГЭ на двигательные функции, когнитивные показатели и качество жизни пациентов, особенно в комбинации с аэробными тренировками [13, 14].
Преимущество ИГГЭ относительно других методов обусловлено её мультимодальностью: одновременное воздействие на ангиогенез, антиоксидантную защиту (через активацию Nrf2) и синаптическую пластичность позволяет снять ограничения, связанные с монотерапевтическими подходами [12, 13, 15]. Например, у пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью ИГГЭ не только улучшала толерантность к нагрузкам, но и снижала маркёры окислительного стресса (малоновый диальдегид) и системного воспаления (IL-6, TNF-α) [15]. Однако успех терапии зависит от персонализации протоколов, учитывающих степень гипоксии (9–16% O₂ для умеренной адаптации), длительность циклов и исходное состояние пациента [16].
Несмотря на растущее количество данных, вопросы оптимизации режимов ИГГЭ, её долгосрочной безопасности и эффективности у пациентов с полиморбидностью требуют дальнейшего изучения. Внедрение этого метода в клиническую практику может сформировать новую парадигму в нейрореабилитации, объединяющую молекулярные и функциональные аспекты восстановления. Обзор посвящён анализу влияния гипоксического кондиционирования (в качестве примера приводится ИГГЭ) в реабилитации пациентов после ОНМК, с акцентом на особенности его эпидемиологического значения, механизмов действия и интеграции в существующие стандарты реабилитации.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ
Поиск литературы был проведён с целью оценки доступных научных материалов, касающихся влияния интервального гипоксически-гипероксического экспонирования на нейропротекцию и реабилитацию пациентов, перенёсших инсульт, особенно в постострой фазе. Комплексный анализ осуществлялся с использованием ряда авторитетных баз данных, включая PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar, а также российских ресурсов, таких как eLIBRARY.RU и Научная электронная библиотека (НЭБ). Для поиска релевантных статей были задействованы такие ключевые слова, как «интервальное гипоксически-гипероксическое экспонирование», «восстановление после инсульта», «нейропротекция», «ангиогенез», «нейрогенез», «когнитивное восстановление», «кардиопротекция», «реабилитация». Данный подход позволил выявить публикации, наиболее соответствующие заданной теме исследования.
ОБСУЖДЕНИЕ
Эпидемиологическое значение исследования реабилитации острого нарушения мозгового кровообращения
ОНМК, в частности инсульт, является одной из наиболее распространённых патологий среди взрослого населения, особенно среди лиц старше 45 лет, однако в последние годы наблюдается рост случаев инсульта и среди более молодых людей в возрасте 25–40 лет [1, 2].
В мировой медицинской практике инсульт продолжает оставаться одной из ведущих причин смертности и инвалидности [1–3]. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год инсульт поражает около 15 миллионов человек, из которых 5 миллионов умирают, а 5 миллионов становятся инвалидами [1, 2].
В настоящее время задачи медицинской реабилитации включают восстановление утраченных функций, снижение уровня инвалидности, улучшение когнитивного и эмоционального состояния, а также предотвращение повторных эпизодов заболевания [11, 17].
В основе современной системы медицинской реабилитации постинсультных больных лежат поэтапность и интеграция различных уровней оказания медицинской помощи — стационарного, амбулаторного и санаторно-курортного. То есть трёхуровневая система реабилитации включает этапы восстановления, компенсации и реадаптации, причём каждый из них имеет свои определённые сроки и специфические особенности.
Эффекты гипоксического кондиционирования у разных категорий пациентов
Стоит отметить, что у разных категорий пациентов (лиц с различными заболеваниями) ГК и гипоксические тренировки оказывают различный эффект (табл. 1).
Таблица 1. Эффекты процедур гипоксического кондиционирования у различных категорий пациентов
Table 1. Effects of hypoxic conditioning procedures in various patient categories
Категория пациентов | Характеристики участников | Протокол ГК | Основные эффекты ГК | Ссылки |
Гипертония | Взрослые, 18–70 лет, гипертония | 10–30 сеансов, FiO2 10–14%, 3–5 эпизодов по 3–5 мин, 3–5 недель | Снижение САД на 10–30 мм рт. ст., ДАД на 10–15 мм рт. ст. | [18] |
Острый инфаркт миокарда | Взрослые пациенты, первый ОИМ, n=333 | RIC: 4 цикла по 5 мин ишемии (манжета, 200 мм рт. ст.) и 5 мин дефляции, однократно | Снижение ишемически-реперфузионного повреждения | [19] |
Хроническая болезнь коронарных артерий | Пожилые, 50–70 лет, n=16 | 15 сеансов, FiO2 10–14%, 3–5 эпизодов по 3–5 мин, 3 недели | Снижение стенокардии (с 12 до 3 приступов), увеличение времени до истощения (+29–52 с), увеличение VO2 peak (+1,8 мл/кг/мин), снижение САД (–21 мм рт. ст.), ДАД (–12 мм рт. ст.), улучшение липидного профиля | |
Сердечная недостаточность | Взрослые с ХСН (n=10), здоровые (n=10) | RIC: 4 цикла по 5 мин ишемии и 5 мин дефляции, 1 неделя | Увеличение резерва коронарного кровотока | |
Гериатрические пациенты | Пожилые пациенты, n=18 | 14–15 сеансов ИГГТ: FiO2 0,12 (4–6 мин) / 0,35 (1–2 мин), 5–6 недель | Увеличение DemTect (11,2–14,2), CDT (7,8–8,4), дистанции 6MWT (234,3–290,7 м) | |
Травма спинного мозга | Взрослые с неполным ПСМ, n=13 | 15 сеансов, FiO2 9%, 60–90 с гипоксии, интервалы 60 с | Увеличение силы сгибателя на 82%, рост ЭМГ-активности | [23] |
Нарушение когнитивной функции | Взрослые с когнитивными нарушениями (50–75 лет) | 10–12 сеансов, FiO2 10–12%, 3–5 мин гипоксии, 2–3 недели | Улучшение скорости обработки информации | [24] |
Болезнь Альцгеймера | Пожилые, 60–85 лет | Экспериментально: 10–15 сеансов, FiO2 10–12%, 3–5 мин гипоксии, 2–4 недели | Потенциальное снижение продукции Aβ, уменьшение нейровоспаления | [25] |
Болезнь Паркинсона | Взрослые, 50–75 лет, n=20 | Непрерывная и интервальная гипоксия: 10–15 сеансов, FiO2 10–12%, 2–4 недели | Потенциальное улучшение двигательных и недвигательных симптомов | [26] |
COVID-19 | Взрослые с пост-COVID синдромом: 1) n=30; 2) n=44 | ИГГТ: 10–15 сеансов, FiO2 9–12%, 1–6 мин гипоксии, 2–3 недели | Улучшение оксигенации, снижение одышки | |
Ожирение | Взрослые, BMI >30, 18–60 лет | 12–15 сеансов ИГГТ: FiO2 10–14%, 3–5 мин, 3–4 недели | Улучшение метаболизма глюкозы, снижение воспалительных маркёров | |
Сахарный диабет | Взрослые, 40–70 лет | 10–15 сеансов ИГГТ: FiO2 10–12%, 3–5 мин, 3 недели | Повышение чувствительности к инсулину, снижение HbA1c | |
Спортсмены | Здоровые атлеты, 18–40 лет | 10–15 сеансов ИГГТ: FiO2 10–14%, 3–5 мин, 2–4 недели | Увеличение VO2 max, улучшение аэробной и анаэробной выносливости |
Примечание. ГК — гипоксическое кондиционирование; FiO2 — доля кислорода во вдыхаемом воздухе; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; ОИМ — острый инфаркт миокарда; VO2 max — максимальное потребление кислорода; VO2 peak — пиковое потребление кислорода; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; RIC — удалённое ишемическое кондиционирование (remote ischemic conditioning); ИГГТ — интервальная гипокси-гиперокситерапия; DemTect — скрининг-тест выявления деменции (Dementia detection test); CDT — тест рисования часов (clock drawing test); 6MWT — тест с шестиминутной ходьбой (6 minutes walking test); ПСМ — повреждение спинного мозга; ЭМГ — электромиография; Aβ — бета-амилоид; HbA1c — гликированный гемоглобин.
Анализ данных, представленных в табл. 1, демонстрирует высокую терапевтическую релевантность прерывистого гипоксического кондиционирования для включения в мультимодальные программы реабилитации пациентов после инсульта. Разные протоколы ГК способствуют значительному снижению артериального давления (снижение систолического артериального давления на 10–30 мм рт. ст., диастолического — на 10–15 мм рт. ст.) у пациентов с гипертонией [18], что является критически важным для вторичной профилактики инсульта. У гериатрических пациентов при применении ИГГЭ отмечено улучшение когнитивных функций (DemTect: с 11,2 до 14,2) и физической выносливости [тест шестиминутной ходьбы (6MWT): с 234,3 до 290,7 м], что соответствует потребностям пациентов с постинсультными когнитивными и моторными нарушениями. Улучшение двигательных функций, подтверждённое увеличением силы сгибателей на 82% у пациентов с травмами спинного мозга [23], указывает на потенциал ИГГЭ в восстановлении моторики после инсульта. Кроме того, положительное влияние на метаболизм глюкозы и снижение воспалительных маркёров у пациентов с ожирением [19, 29] может способствовать управлению коморбидными состояниями, часто встречающимися у пациентов с инсультом. Потенциальное уменьшение депрессивных симптомов, наблюдаемое в исследованиях ИГГЭ [19], также поддерживает психоэмоциональную реабилитацию.
Учитывая, что пациенты после инсульта сталкиваются с аналогичными проблемами, включая гипертонию, когнитивные нарушения, моторные дефициты и депрессию, ИГГЭ представляет собой перспективный метод для интеграции в комплексные реабилитационные программы, требующий дальнейших клинических исследований для оптимизации протоколов [19, 22, 23].
Теоретическое обоснование применения интервальных гипоксически-гипероксических экспозиций в медицинской реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения
Молекулярные механизмы адаптации к гипоксии
В условиях кислородного дефицита ключевую роль в клеточном ответе играют транскрипционные факторы HIF-1α и NF-κB, активация которых определяет стратегию адаптации или патологического ответа. Стабилизация HIF-1α при снижении парциального давления O₂ происходит за счёт ингибирования кислород-зависимых пролилгидроксилаз, предотвращающих его протеосомную деградацию. Это позволяет транскрипционному фактору аккумулироваться в ядре и регулировать экспрессию генов, ассоциированных с ангиогенезом (VEGF), переходом на анаэробный метаболизм (гликолитические ферменты) и подавлением апоптоза [10]. Параллельно гипоксия модулирует активность NF-κB, взаимодействие которого с HIF-1α формирует дуалистические сигнальные каскады в зависимости от степени кислородной недостаточности.
Как демонстрируют исследования, при умеренной гипоксии (9–16% O₂) наблюдается синергизм между HIF-1α и NF-κB, приводящий к подавлению провоспалительных цитокинов, включая IL-1β и TNF-α. Данный механизм, описанный в работах В.А. Приходько и соавт. (2021), способствует усилению клеточной резистентности за счёт минимизации воспалительного ответа и оптимизации энергетического баланса [32]. Напротив, выраженный кислородный дефицит (<8% O₂) индуцирует дисбаланс в системе HIF-1α / NF-κB, что провоцирует активацию NADPH-оксидаз, накопление активных форм кислорода и экспрессию медиаторов воспаления. Подобный сдвиг, как отмечают Д.Г. Семёнов и А.В. Беляков (2023), связан с нарушением митохондриального дыхания и истощением антиоксидантных систем, что формирует порочный круг окислительного стресса и повреждения тканей [16].
Интересно, что адаптационный потенциал HIF-1α при лёгкой гипоксии может нивелироваться гиперэкспрессией NF-κB в условиях глубокого дефицита O2, что подчёркивает контекстно-зависимый характер их взаимодействия. Такая динамика отражает эволюционно закреплённый компромисс между энергосберегающими механизмами и необходимостью устранения повреждений через воспалительный ответ. Указанные процессы имеют важное значение для понимания патогенеза ишемических состояний, а также разработки стратегий ГК, направленных на модуляцию активности изученных транскрипционных факторов.
Бифункциональная роль активных форм кислорода и регуляция антиоксидантных систем
Гипоксия индуцирует образование активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) через дисфункцию митохондрий и активацию NO-синтазы [10, 32]. При контролируемой гипоксии умеренные уровни АФК активируют адаптивные пути (HIF-1α, Nrf2), стимулируя ангиогенез и нейропротекцию, тогда как их избыток вызывает окислительный стресс [16]. Эксперименты на крысах показали, что периодическая гипоксия снижает АФК за счёт супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы, подавляя провоспалительные цитокины (IL-6, IL-8) [16], а также уменьшает содержание малонового диальдегида [33]. Интенсивная гипоксия нарушает окислительно-восстановительный баланс: дисбаланс HIF-1α / HIF-2α усиливает активность NF-κB, приводя к нейровоспалению, эксайтотоксичности (глутамат, Ca²⁺) и повреждению гематоэнцефалического барьера [10, 30]. Эффективность антиоксидантного ответа зависит от параметров гипоксии: умеренные режимы (12% O₂, 5 циклов в день) снижают объём инфаркта на 30–40% через HIF-1α и BDNF [10], тогда как интенсивные (<8% O₂) усиливают некроз и воспаление [16]. Показано, что продукция АФК повышается в периоды реоксигенации после гипоксии и в ещё большей степени — при умеренной гипероксии, обеспечивая умеренную активацию транскрипционного фактора NF-κB и повышение мощности антиоксидантных и противовоспалительных механизмов, что дополняет гематологические и негематологические эффекты адаптации собственно к интервальной гипоксии [12, 13]. Этот факт, а также ряд экспериментальных исследований обосновывают применение протоколов ИГГЭ как более эффективных для инициации позитивных адаптивных сдвигов [14, 19].
Таким образом, оптимальные параметры гипоксических воздействий и реоксигенации / умеренной гипероксигенации критичны для баланса адаптации и повреждения [16].
Нейрогенез, синаптогенез, ангиогенез и сосудистое ремоделирование при восстановлении после инсульта
Исследования на животных моделях ишемии показали, что активация HIF (гипоксией индуцируемого фактора) усиливает ангиогенез посредством VEGF, улучшая перфузию повреждённых зон мозга [34]. Гипоксия также оптимизирует митохондриальную функцию, стимулируя биогенез митохондрий и устойчивость к окислительному стрессу, что подтверждено в нейронных культурах [35]. В условиях гипобарической гипоксии (эквивалент 5000 м) у крыс было зафиксировано увеличение экспрессии антиапоптотического белка Bcl-2 в гиппокампе, что коррелировало с улучшением когнитивных функций [36].
Контролируемая гипоксия стимулирует нейрогенез в гиппокампе и субвентрикулярной зоне, усиливая пролиферацию нейральных стволовых клеток. В экспериментах на крысах с ишемией протокол ИГГЭ повышал уровень BDNF, способствуя синаптогенезу, ремоделированию нейронных сетей и восстановлению моторных функций [11]. Кратковременные гипоксические воздействия (3–10 минут) улучшали когнитивные показатели, включая обучение и память, за счёт активации нейрогенеза в гиппокампе [30].
Данные механизмы демонстрируют потенциал гипоксических воздействий для мультимодального восстановления мозга после ишемии, сочетая ангиогенез, митохондриальную адаптацию и нейропластичность.
Применение в моделях нейродегенеративных заболеваний
Исследования на животных с болезнью Альцгеймера показали, что ГК снижает β-амилоид и гиперфосфорилированный тау-белок, активируя HIF-пути и аутофагию [37]. В моделях болезни Паркинсона гипоксическое кондиционирование улучшает двигательную координацию, модулируя митохондриальную функцию и снижая окислительный стресс [36]. Данные подтверждают потенциал ГК в постинсультной реабилитации [37]. Комбинация ИГГЭ с двигательной терапией усиливает нейропротекцию при ишемии [34]. Интервальная гипоксия также снижает воспаление, улучшает липидный профиль и повышает аэробную выносливость [38].
Клиническое обоснование применения интервальных гипоксически-гипероксических экспозиций в медицинской реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения
Нейропластичность и ангиогенез
Клинические исследования подтверждают, что процедуры ИГГЭ активируют адаптивные механизмы, улучшая когнитивные и двигательные функции. Умеренная гипоксия стимулирует нейропластичность через повышение BDNF, способствуя синаптогенезу и восстановлению нейронных сетей [19, 39]. ИГГЭ активирует HIF-1α, усиливая выработку VEGF, что улучшает церебральный кровоток и увеличивает плотность капилляров в ишемизированных зонах, коррелируя с восстановлением моторных и когнитивных функций [23, 40]. Эти механизмы критичны для нейроваскулярного ремоделирования в резидуальном периоде ОНМК.
Нормализация гемодинамики и кардиопротекция
ИГГЭ модулирует артериальное давление, снижая риск повторных инсультов у гипертоников [15]. Кардиопротективный эффект подтверждён в исследовании D. Tuter и соавт. (2018): короткий (3–4 процедуры) курс гипоксически-гипероксического прекондиционирования уменьшал уровни тропонина I и лактата после кардиохирургических вмешательств, что сопровождалось меньшим количеством периоперационных осложнений [41]. У пациентов с сердечной недостаточностью трёхнедельный курс ИГГЭ повышал толерантность к нагрузкам и когнитивные показатели [42], что важно для комплексной реабилитации при сопутствующих сердечно-сосудистых патологиях.
Влияние на церебральную перфузию
Интервальные гипоксические процедуры в покое улучшают микроциркуляцию и оксигенацию мозга, стимулируя ангиогенез через HIF-1α/VEGF [43]. В сочетании с аэробными тренировками применение процедур ГК приводило к более значимому приросту дистанции в тесте 6MWT (на 15–20% в сравнении с плацебо-контролем), потенцируя кардиореспираторную адаптацию [13].
Нейрогенез и функциональное восстановление
ИГГЭ стимулирует нейрогенез в гиппокампе. Комбинация курса процедур ИГГЭ с физической терапией повышала уровень BDNF, улучшая память и исполнительные функции [15, 16]. Усиление синаптической пластичности способствовало восстановлению двигательных навыков, что согласуется с данными при нейродегенеративных заболеваниях [10].
ГК оказывает влияние на пролиферацию нейрональных предшественников: в модели интервального гипоксического кондиционирования отмечается значительное увеличение Ki-67-позитивных клеток и метящихся нейрональных стволовых клеток в зубчатой извилине гиппокампа [44]. Количество DCX-позитивных (doublecortin) клеток, отражающих раннюю дифференцировку нейронов, после серии гипоксических циклов также возрастает, что свидетельствует об усилении нейрогенеза и миграции нейрональных предшественников [44, 45].
Ещё одним важным фактом представляется повышение выживаемости новообразованных нейронов за счёт снижения апоптоза под влиянием курса сессий ГК, что подтверждается уменьшением числа Caspase-3-позитивных клеток и TUNEL-меток в гиппокампе [9].
На молекулярном уровне наблюдается активация HIF-1α и последующее повышение экспрессии факторов роста, включая VEGF и эритропоэтин, а также увеличение уровня нейротрофинов (BDNF), что создаёт проангиогенное и пронейрогенное микроокружение [45, 46].
Серии гипоксических стимулов улучшают синаптическую пластичность гиппокампа за счёт повышения уровней синаптофизина и PSD-95, а также усиления потенцирования в длинном отрезке, что коррелирует с улучшением когнитивных функций [46, 47].
Морфологически гипоксическое кондиционирование увеличивает плотность дендритных шипиков в пирамидных нейронах CA1 и CA3, что способствует укреплению синаптических связей и восстановлению структурных компонентов нейрональной сети [48].
Коррекция нейровоспаления и окислительного стресса
Показано, что курс процедур ГК снижает провоспалительные цитокины и маркёры окислительного стресса, уменьшая объём поражения мозга. В отличие от патологической гипоксии (например, при COVID-19) контролируемая ИГГЭ активирует антиоксидантные системы, нивелируя нейровоспаление [15, 19, 43, 49].
Нейропсихологические и когнитивные эффекты, влияние на субъективное восприятие качества жизни
В ряде исследований показаны преимущества применения ИГГЭ в мультимодальных программах по сравнению с плацебо-контролем: ГК улучшает память, внимание и скорость обработки информации, снижая тревожность и депрессию через модуляцию активности автономной нервной системы [35, 50, 51].
ИГГЭ повышает физическую выносливость на 6МWT и когнитивные функции, улучшая повседневную активность и снижая зависимость от посторонней помощи [14, 30, 42], в том числе при применении в педиатрической практике [52]. Метод стабилизирует сон, уменьшая проявления синдрома апноэ и улучшая его структуру, что подтверждено данными полисомнографии [15].
Таким образом, накопленные научные данные подтверждают, что включение метода ИГГЭ в реабилитационные программы способствует снижению ишемических повреждений, регуляции нейровоспаления и восстановлению нейропластичности. Этот метод не только улучшает функциональные исходы и качество жизни пациентов, но и снижает риск осложнений. Тем не менее дальнейшие исследования необходимы для оптимизации протоколов и учёта индивидуальных особенностей пациентов после ОНМК в периоде остаточных явлений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИГГЭ представляет собой многообещающий метод в реабилитации пациентов после ОНМК. Способность интервальных гипоксических экспозиций активировать ключевые молекулярные пути, такие как HIF-1α и Nrf2, обеспечивает нейропротекцию, стимулирует ангиогенез и оптимизирует окислительно-восстановительный баланс. Эти механизмы способствуют усилению церебрального кровотока, восстановлению нейропластичности и улучшению метаболической адаптации мозга, что напрямую влияет на восстановление когнитивных и моторных функций. Кроме того, ИГГЭ демонстрирует потенциал в снижении нейровоспаления и коррекции психоэмоциональных расстройств, что критически важно для повышения качества жизни пациентов.
Комбинация ИГГЭ с физическими упражнениями и когнитивным тренингом ускоряет восстановление внимания, памяти и скорости обработки информации за счёт усиления синаптической пластичности и повышения BDNF. Отмечены сердечно-сосудистые и метаболические преимущества метода: он улучшает эндотелиальную функцию, нормализует артериальное давление и оптимизирует липидный профиль, что особенно значимо для пациентов с сопутствующими кардиологическими патологиями. В качестве нелекарственной технологии ИГГЭ предлагает безопасную альтернативу или дополнение к традиционной фармакотерапии, минимизируя риски побочных эффектов.
Широкий спектр эффектов ИГГЭ, от повышения аэробной выносливости до регуляции сна, способствует всесторонней реабилитации, снижая зависимость пациентов от посторонней помощи. Гипокситерапия формирует устойчивость к гипоксии / транзиторной ишемии, снижая риск повторных ишемических событий и усиливая долгосрочные функциональные исходы.
Совмещение ИГГЭ с роботизированной терапией, виртуальной реальностью и биологической обратной связью может усилить синергизм реабилитационных методов.
Реализация этих шагов позволит трансформировать ИГГЭ из экспериментального и пилотного клинического метода в стандартный компонент реабилитационных программ, предлагая пациентам после ОНМК инновационный, персонализированный и комплексный подход к восстановлению.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. М. Ньямукондива — концепция и дизайн исследования, написание текста, редактирование; Е.С. Конева — сбор и обработка материала, редактирование; О.С. Глазачев — сбор и обработка материала. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: M. Nyamukondiva: research concept and design, text writing, editing; E.S. Koneva: collection and processing of material, editing; O.S. Glazachev: collection and processing of material. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, as no new data was collected or created.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
About the authors
Malachi Nyamukondiwa
Sechenov First Moscow State Medical University
Author for correspondence.
Email: nyamukondiva_m@student.sechenov.ru
ORCID iD: 0000-0002-9834-2505
Russian Federation, Moscow
Elizaveta S. Koneva
Sechenov First Moscow State Medical University; MEDSI
Email: elizaveta.coneva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9859-194X
SPIN-code: 8200-2155
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor, Professor
Russian Federation, Moscow; MoscowOleg S. Glazachev
Sechenov First Moscow State Medical University
Email: glazachev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9960-6608
SPIN-code: 6168-2110
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, MoscowReferences
- Kuriakose D, Xiao Z. Pathophysiology and Treatment of Stroke: Present Status and Future Perspectives. Int J Mol Sci. 2020;21(20):7609. doi: 10.3390/ijms21207609
- Grefkes C, Fink GR. Recovery from stroke: current concepts and future perspectives. Neurological research and practice. 2020; 2(1):17. doi: 10.1186/s42466-020-00060-6
- Kadykov AS, Shakhparonova NV. Rehabilitation after stroke. Russian Medical Journal. 2003;11(25):1390–1394. (In Russ.)
- Levin OS, Bogolepova AN. Poststroke motor and cognitive impairments: clinical features and current approaches to rehabilitation. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2020;120(11):99–107. doi: 10.17116/jnevro202012011199 EDN: VZORCZ
- Damulin IV, Ekusheva EV. Poststroke neuroplasticity processes. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2014;6(3):69–74. doi: 10.14412/2074-2711-2014-3-69-74 EDN: SXMTMP
- Kalaria RN, Akinyemi R, Ihara M. Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia. Biochim Biophys Acta. 2016;1862(5):915–925. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.01.015
- Jokinen H, Melkas S, Ylikoski R, et al. Post-stroke cognitive impairment is common even after successful clinical recovery. Eur J Neurol. 2015;22(9):1288–1294. doi: 10.1111/ene.12743
- Katan M, Luft A. Global Burden of Stroke. Semin Neurol. 2018;38(2):208–211. doi: 10.1055/s-0038-1649503
- Baillieul S, Chacaroun S, Doutreleau S, et al. Hypoxic conditioning and the central nervous system: A new therapeutic opportunity for brain and spinal cord injuries? Exp Biol Med (Maywood). 2017;242(11):1198–1206. doi: 10.1177/1535370217712691
- Bondarenko NN, Khomutov EV, Ryapolova TL, et al. Molecular and cellular mechanisms of hypoxic response. Ulyanovsk Medico-Biological Journal. 2023;(2):6–29. doi: 10.34014/2227-1848-2023-2-6-29. EDN: KDWYWV
- Marín-Medina DS, Arenas-Vargas PA, Arias-Botero JC, et al. New approaches to recovery after stroke. Neurol Sci. 2024;45(1):55–63. doi: 10.1007/s10072-023-07012-3
- Burtscher J, Citherlet T, Camacho-Cardenosa A, et al. Mechanisms underlying the health benefits of intermittent hypoxia conditioning. J Physiol. 2024;602(21):5757–5783. doi: 10.1113/JP285230
- Burtscher J, Glazachev OS, Kopp M, Burtscher M. Effects of intermittent hypoxia exposures and interval hypoxic training on exercise tolerance (narrative review). Sports Medicine: Research and Practice. 2024;14(2):16–23. doi: 10.47529/2223-2524.2024.2.5 EDN: NXMOXI
- Rybnikova EA, Nalivaeva NN, Zenko MY, Baranova KA. Intermittent Hypoxic Training as an Effective Tool for Increasing the Adaptive Potential, Endurance and Working Capacity of the Brain. Front Neurosci. 2022;16:941740. doi: 10.3389/fnins.2022.941740 EDN: EMYARG
- Glazachev OS, Lyamina NP, Spirina GK. Intermittent hypoxic conditioning: experience and potential in cardiac rehabilitation programs. Russian Journal of Cardiology. 2021;26(5):4426. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4426 EDN: NDKICG
- Semenov DG, Belyakov AV. Hypoxic Conditioning as a Stimulus for the Formation of Hypoxic Tolerance of the Brain. Progress in physiological science. 2023;54(2):3–19. doi: 10.31857/S0301179823020066. EDN: PLLHTS
- Gluschenkova NV, Sarkisian OG, Goncharova ZA. Malignant ischemic stroke: clinical and biochemical features of diagnosis. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(2):35–45. doi: 10.21886/2712-8156-2023-4-2-35-45 EDN: UBXJHP
- Serebrovskaya TV, Manukhina EB, Smith ML, Downey HF, Mallet RT. Intermittent hypoxia: cause of or therapy for systemic hypertension? Exp Biol Med (Maywood). 2008;233(6):627–650. doi: 10.3181/0710-MR-267 EDN: LKZULR
- Behrendt T, Bielitzki R, Behrens M, Herold F, Schega L. Effects of intermittent hypoxia–hyperoxia on performance-and health-related outcomes in humans: A systematic review. Sports Medicine — Open. 2022;8(1):70. doi: 10.1186/s40798-022-00450-x
- Glazachev O, Kopylov P, Susta D, Dudnik E, Zagaynaya E. Adaptations following an intermittent hypoxia-hyperoxia training in coronary artery disease patients: a controlled study. Clin Cardiol. 2017;40(6):370–376. doi: 10.1002/clc.22670 EDN: XNDVJA
- Kono Y, Fukuda S, Hanatani A, et al. Remote ischemic conditioning improves coronary microcirculation in healthy subjects and patients with heart failure. Drug Des Devel Ther. 2014;8:1175–1181. doi: 10.2147/DDDT.S68715
- Bayer U, Glazachev OS, Likar R, et al. Adaptation to intermittent hypoxia–hyperoxia improves cognitive performance and exercise tolerance in the elderly. Adv Gerontol. 2017;7(3):214–20. doi: 10.1134/S2079057017030031 EDN: PRTFOT
- Trumbower RD, Jayaraman A, Mitchell GS, Rymer WZ. Exposure to acute intermittent hypoxia augments somatic motor function in humans with incomplete spinal cord injury. Neurorehabil Neural Repair. 2012;26(2):163–172. doi: 10.1177/1545968311412055
- Mikhalishchina AS, Zagayniy ED, Vasina YV, Glazachev OS. Effect of single interval hypoxic stimulation on cognitive functions of healthy volunteers. Psychophysiology News. 2023;(4):86–95. doi: 10.34985/d2699-5404-1619-b EDN: SXUBQJ
- Tao B, Gong W, Xu C, Ma Z, Mei J, Chen M. The relationship between hypoxia and Alzheimer's disease: an updated review. Front Aging Neurosci. 2024;16:1402774. doi: 10.3389/fnagi.2024.1402774
- Janssen Daalen JM, Meinders MJ, Giardina F, et al. Multiple N-of-1 trials to investigate hypoxia therapy in Parkinson's disease: study rationale and protocol. BMC Neurol. 2022;22(1):262. doi: 10.1186/s12883-022-02770-7
- Cai M, Chen X, Shan J, et al. Intermittent Hypoxic Preconditioning: A Potential New Powerful Strategy for COVID-19 Rehabilitation. Front Pharmacol. 2021;12:643619. doi: 10.3389/fphar.2021.643619
- Kostenko AA, Koneva ES, Malyutin DS, et al. Hypoxic training in rehabilitation of patients at the early stages of recovery after SARS-CoV-2 pneumonia. Problems of Balneology, Physiotherapy and Exercise Therapy. 2022;99(4–2):11–16. doi: 10.17116/kurort20229904211. EDN: JLLLKB
- Bestavashvili AA, Glazachev OS, Bestavashvili AA, et al. The effects of intermittent hypoxic-hyperoxic exposures on lipid profile and inflammation in patients with metabolic syndrome. Front Cardiovasc Med. 2021;8:700826. doi: 10.3389/fcvm.2021.700826 EDN: CPYBXP
- Serebrovska TV, Grib ON, Portnichenko VI, et al. Intermittent Hypoxia/Hyperoxia Versus Intermittent Hypoxia/Normoxia: Comparative Study in Prediabetes. High Alt Med Biol. 2019;20(4):383–391. doi: 10.1089/ham.2019.0053 EDN: ZBEJZV
- Susta D, Dudnik E, Glazachev OS. A programme based on repeated hypoxia–hyperoxia exposure and light exercise enhances performance in athletes with overtraining syndrome: a pilot study. Clin Physiol Funct Imaging. 2017;37:276–81. doi: 10.1111/cpf.12296 EDN: YUUOAB
- Prikhodko VA, Selizarova NO, Okovityĭ SV. Molecular mechanisms for hypoxia development and adaptation to it. Part I. Russian Journal of Archive of Pathology. 2021;83(2):52–61. doi: 10.17116/patol20218302152 EDN: REJNHM
- Мartynov MU, Zhuravleva MV, Vasyukova NS, Kuznetsova EV, Kameneva TR. Oxidative stress in the pathogenesis of stroke and its correction. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2023;123(1):16–27. doi: 10.17116/jnevro202312301116 EDN: VPHPBW
- Chen L, Gao Y, Li Y, et al. Severe Intermittent Hypoxia Modulates the Macrophage Phenotype and Impairs Wound Healing Through Downregulation of HIF-2α. Nat Sci Sleep. 2022;14:1511–1520. doi: 10.2147/NSS.S382275
- Mallet RT, Burtscher J, Gatterer H, et al. Hyperoxia-enhanced intermittent hypoxia conditioning: mechanisms and potential benefits. Med Gas Res. 2024;14(3):127–129. doi: 10.4103/mgr.MEDGASRES-D-23-00046
- Burtscher J, Duderstadt Y, Gatterer H, et al. Hypoxia Sensing and Responses in Parkinson's Disease. Int J Mol Sci. 2024;25(3):1759. doi: 10.3390/ijms25031759
- Lei L, Feng J, Wu G, et al. HIF-1α Causes LCMT1/PP2A Deficiency and Mediates Tau Hyperphosphorylation and Cognitive Dysfunction during Chronic Hypoxia. Int J Mol Sci. 2022;23(24):16140. doi: 10.3390/ijms232416140
- Damgaard V, Mariegaard J, Lindhardsen JM, Ehrenreich H, Miskowiak KW. Neuroprotective Effects of Moderate Hypoxia: A Systematic Review. Brain Sci. 2023;13(12):1648. doi: 10.3390/brainsci13121648
- Elendu C, Amaechi DC, Elendu TC, et al. Stroke and cognitive impairment: understanding the connection and managing symptoms. Ann Med Surg (Lond). 2023;85(12):6057–6066. doi: 10.1097/MS9.0000000000001441
- Chen L, Ren SY, Li RX, et al. Chronic Exposure to Hypoxia Inhibits Myelinogenesis and Causes Motor Coordination Deficits in Adult Mice. Neurosci Bull. 2021;37(10):1397–1411. doi: 10.1007/s12264-021-00745-1
- Tuter DS, Kopylov PY, Syrkin AL, et al. Intermittent systemic hypoxic-hyperoxic training for myocardial protection in patients undergoing coronary artery bypass surgery: first results from a single-centre, randomised controlled trial. Open Heart. 2018;5(2):e000891. doi: 10.1136/openhrt-2018-000891
- Bayer U, Likar R, Pinter G, et al. Effects of intermittent hypoxia-hyperoxia on mobility and perceived health in geriatric patients performing a multimodal training intervention: a randomized controlled trial. BMC Geriatr. 2019;19(1):167. doi: 10.1186/s12877-019-1184-1
- Duderstadt Y, Schreiber S, Burtscher J, et al. Controlled Hypoxia Acutely Prevents Physical Inactivity-Induced Peripheral BDNF Decline. Int J Mol Sci. 2024;25(14):7536. doi: 10.3390/ijms25147536
- Li G, Guan Y, Gu Y, et al. Intermittent hypoxic conditioning restores neurological dysfunction of mice induced by long-term hypoxia. CNS Neuroscience & Therapeutics. 2023;29(1):202–215. doi: 10.1111/cns.13996
- Li G, Liu J, Guan Y, Ji X. The role of hypoxia in stem cell regulation of the central nervous system: From embryonic development to adult proliferation. CNS Neuroscience & Therapeutics. 2021;27(12):1446–1457. doi: 10.1111/cns.13754
- Wakhloo D, Scharkowski F, Curto Y, et al. Functional hypoxia drives neuroplasticity and neurogenesis via brain erythropoietin. Nat Commun. 2020;11(1):1313. doi: 10.1038/s41467-020-15041-1
- Khuu MA, Pagan CM, Nallamothu T, et al. Intermittent Hypoxia Disrupts Adult Neurogenesis and Synaptic Plasticity in the Dentate Gyrus. J Neurosci. 2019;39(7):1320-1331. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1359-18.2018
- Yuan H, Liu J, Gu Y, Ji X, Nan G. Intermittent hypoxia conditioning as a potential prevention and treatment strategy for ischemic stroke: Current evidence and future directions. Front Neurosci. 2022;16:1067411. doi: 10.3389/fnins.2022.1067411
- Behrendt T, Bielitzki R, Behrens M, Glazachev OS, Schega L. Effects of Intermittent Hypoxia-Hyperoxia Exposure Prior to Aerobic Cycling Exercise on Physical and Cognitive Performance in Geriatric Patients — A Randomized Controlled Trial. Front Physiol. 2022;13:899096. doi: 10.3389/fphys.2022.899096
- Albrecht M, Zitta K, Groenendaal F, van Bel F, Peeters-Scholte C. Neuroprotective strategies following perinatal hypoxia-ischemia: Taking aim at NOS. Free Radic Biol Med. 2019;142:123–131. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.02.025
- Doehner W, Fischer A, Alimi B, et al. Intermittent Hypoxic-Hyperoxic Training During Inpatient Rehabilitation Improves Exercise Capacity and Functional Outcome in Patients With Long Covid: Results of a Controlled Clinical Pilot Trial. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2024;15(6):2781–2791. doi: 10.1002/jcsm.13628
- Glazachev OS, Geppe NA, Timofeev YuS, et al. Indicators of individual hypoxia resistance — a way to optimize hypoxic training for children. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2020;65(4):78–84. doi: 10.21508/1027-4065-2020-65-4-78-84 EDN: AKHVQE
- Ignatenko GA, Bagriy AE, Ignatenko TS, et al. Possibilities and Prospects of Hypoxytherapy Application in Cardiology. The Russian Archives of Internal Medicine. 2023;13(4):245–252. doi: 10.20514/2226-6704-2023-13-4-245-252. EDN: AHXHPL
Supplementary files